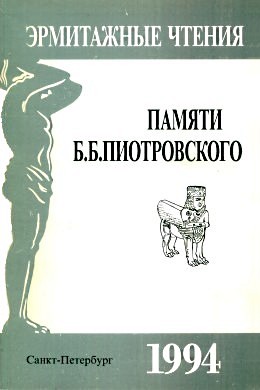 А.Ю. Алексеев
А.Ю. Алексеев
О поддельных предметах скифской торевтики из коллекции Ф.С. Романовича.
Вопрос о подлинности и поддельности тех или иных предметов, относящихся по ряду формальных признаков к кругу изделий эллино-скифской торевтики, периодически возникает и обсуждается среди скифологов и антиковедов. И хотя особенно актуальной проблема фальсификаций оказалась в конце XIX — начале XX в., она не исчерпала себя полностью и в настоящее время. До сих пор остаются предметы, подлинность которых, как мне представляется, не доказана окончательно (например, сахновская пластина), равно как известны и изделия, криминальный характер изготовления которых вновь требует подтверждения (об одной такой вещи пойдёт речь в докладе). Чаще всего именно альтернативой «подлинная — поддельная» ограничивалась проблема атрибуции сомнительных изделий. Причём, при отрицательном ответе на вопрос о подлинности поиск источника (или источников) фальсификации происходил среди круга предметов, известных по литературе к моменту изготовления подделки. В последние годы доказательство подлинности некоторых вещей, считавшихся подделками, строилось по следующей логической схеме: поскольку детали, наблюдаемые на этих предметах, не могли быть известны фальсификаторам, т.к. аналогии для них появились много позднее изготовления и представления самих вещей, эти вещи — подлинные (Ильинская, 1978; Черненко, Клочко, 1979). При этом упускается из вида возможность существования в прошлом неизвестных нам подлинных предметов, послуживших образцами для криминальных ювелиров.
Именно с этой точки зрения небезынтересно будет рассмотреть несколько предметов, присланных в 1895 г. на экспертизу в Археологическую Комиссию известным любителем и собирателем древностей Ф.С. Романовичем. Их происхождение не установлено окончательно, но есть основания связывать эти вещи (или их прототипы) с северокавказским регионом, прежде всего — с кубанской областью. С 1898 г. в Эрмитаже хранятся гальванокопии изделий этой коллекции, поскольку сами оригиналы почти сразу же вызвали сомнение в своей подлинности, были отосланы владельцу и судьба большинства из них, за одним исключением, неясна.
Из семи известных в настоящее время копий (первоначально их было изготовлено девять) — большая декоративная «ворворка», два фрагмента ажурных пластин с батальными сценами, детали двух ритонов, обломок наконечника гривны и подвески — лишь две послед-
(3/4)
ние скорее всего воспроизведены с подлинных вещей. Ко наибольший интерес в этой коллекции представляют все же изделия поддельные, и прежде всего следующие:
1. Большая «ворворка» [см. фото] — усечённый конус с вогнутыми стенками, — подлинность которой на основании явных стилистических и композиционных несуразностей, а также из-за её необычной формы вызвала сомнение уже у М.И. Ростовцева, Е.М. Придика и др. (есть основания полагать, что её история соприкоснулась с историей знаменитой тиары Сайтафарна: Бертье-Делагард, 1896), неожиданно обрела близкие формальные аналогии среди находок последних десятилетий (Ильичёвский, Братолюбовский курганы и др.). Видимо, форма предмета при фальсификации была воспроизведена почти без искажений. Декор же подделки распадается на две группы: её верхнюю часть украшает преимущественно растительный орнамент, переданный мастером, хотя и с заметными нарушениями канона, но всё же достаточно точно, как можно о том судить по имеющимся аналогиям на различных предметах эллино-скифской торевтики V-IV вв. до н.э.; сложнее обстоит дело с батальными сценами, представленными в нижней части конуса. То, что на предметах этого типа они в принципе могли присутствовать, надежно подтверждает недавняя находка подобного предмета из Передериевой Могилы (Моруженко, 1992). Фантазия фальсификатора отразилась преимущественно на композиции и стилистических особенностях изображений. Две из четырёх представленных сцен имеют очевидные сюжетные соответствия в причерноморской торевтике: 1) всадник с копьём (гребень, чаши из Солохи, бляшки-аппликации из Куль-Обы и пр.) и 2) сражение двух воинов, один из которых схватил своего противника за волосы (горит из Солохи, конус из Передериевой Могилы и др.); 3) всадник на падающей лошади также известен на серебряном горите из Солохи, на ножнах меча из Чертомлыка; 4) сцена с последним (третьим) всадником на «ворворке» из коллекции Романовича отличается своим необычным решением. В целом же круг аналогий позволяет, хотя и весьма приблизительно, реконструировать ныне неизвестный подлинный древний оригинал, изготовление которого можно отнести к рубежу V-IV, началу IV в. до н.э. Именно в это время в Скифии был проявлен особый интерес к изображению сцен сражений между скифскими воинами, один из мотивов которых заключался в противостоянии «старых» и «молодых».
2. Принципиальная возможность существования утраченных образцов, установленная на примере конуса из собрания Романовича, позволяет предполагать аналогичную судьбу другой группы изделий из этой коллекции: ажурных пластин, на которых представлены вар-
(4/5)
вары в трёх батальных эпизодах. Одна пластина (в Эрмитаже сейчас хранится копия лишь её части; оригинал в 1960-х гг. находился в частном собрании [перепродан на Кристи в 2008 г., см. фото]) явилась предметом специального рассмотрения В.А. Ильинской (1978). Опираясь на то, что ближайшей аналогией пластине является гребень из кургана Солоха, ставший известным почти через двадцать лет после появления пластины, Ильинская пришла к выводу о её подлинности.
Небольшой фрагмент другой аналогичной пластины, оставшийся неизвестным Ильинской, подтверждает общий вывод о близости источника именно к солохинскому гребню, но одновременно позволяет проиллюстрировать и явное непонимание и искажение мастером-фальсификатором некоторых исходных деталей (например, «щита» за спиной воина, деталей его снаряжения). В равной степени это относится и к лучше известной большой пластине, выполненной скорее всего в виде метопиды. Источник этой подделки не устанавливается, но не исключено, что им послужил не один предмет (как в случае с большой «ворворкой»), а несколько, среди которых могли быть и кавказские находки, например, из кургана Карагодеуашх (1888), Курджипского кургана (1895) и др.
наверх
|