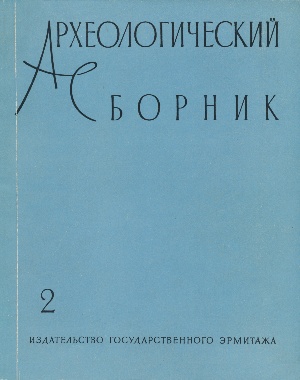 А.А. Иессен
А.А. Иессен
Так называемый «Майкопский пояс».
В 1916 г. Эрмитажем был приобретён у частного лица серебряный поясной набор, будто бы найденный в Майкопе. 1 [1] Набор состоит из 33 отдельных позолоченных звеньев, насаживавшихся вплотную одно к другому на мягкую основу. Общая длина всего набора 77-78 см, что примерно соответствует длине женского пояса.
Звенья пояса не одинаковы (рис. 1, 1-3). Два передних ажурных звена представляют собой пряжку с крючком и петлёй. Правое звено от зрителя (левое для надевшего пояс) изображает издыхающего коня, упавшего на передние ноги, с круто пригнутой вниз шеей и головой и с развёрнутой на 90° задней частью туловища. Конь изображён на фоне дерева, листья которого образуют верхний край пластины, а ствол виден ниже крупа коня. На плече и бедре коня помещены гнезда со вставками альмандинов 2; [2] такое же гнездо изображает ухо. Круглый проём, образованный шеей коня и его правой передней ногой, служил петлёй для застёгивания пояса. Это изображение тремя серебряными гвоздиками (сохранился один) и пайкой по краю скреплено с тонкой серебряной пластинкой-основой.
Левое от зрителя звено изображает крылатое чудовище — грифона. Его голова выдвинута вперёд и образует крючок пряжки. Изображение дано частью в профиль, частью сверху. Крылья орнаментированы чешуйчатым узором и продольными врезами. Между крыльями по верхнему краю видны листья дерева, такие же как и на пластине с изображением коня. Изображение грифона также было напаяно по краям и прикреплено 4 гвоздиками (два сохранились) к пластинке-основе. В основании правого крыла и на месте обоих ушей — гнёзда для вставок альмандинов, сохранившихся только в ушах.
У обоих звеньев пластинки-подкладки несколько повреждены.
Задние ноги коня, а также отставленная назад лапа и крыло грифона развёрнуты таким образом, что они образуют контур, почти точно совпадающий с контуром переднего края примыкающих к ним следующих звеньев.
С каждой стороны за пряжкой следует по 15 одинаковых звеньев, представляющих стилизованное распластанное изображение летящей птицы (орла?); головы птиц переданы в виде геометрической фигуры, каждая с 5 гнёздами со вставками альмандинов. Крылья орнаментированы по обе стороны головы чешуйчатым рисунком, а в остальной части — параллельными продольными полосами с косыми насечками. С обратной стороны каждое звено имеет по две напаянных серебряных скобы.
(163/164)

Рис. 1, 1, 2, 3. Серебряный «майкопский пояс».
(Открыть Рис. 1 в новом окне)
(164/165)
Звенья не все одинаковых размеров, толщина их различна, скобы напаяны не всегда на одних и тех же местах. Одно из звеньев неполное, часть его утрачена; остальная часть почернела как бы в результате пребывания в огне.
Сзади пояс замыкается большим звеном, составленным из двух обращённых в разные стороны изображений птиц, таких же как и предыдущие, но соединённых дополнительно в середине стилизованными в том же духе изображениями туловища и хвоста обеих птиц. В центре этих изображений помещено большое гнездо со вставкой альмандина; на внутренней стороне — две напаянных скобы, из которых сохранилась только одна.
Общий вес всего набора 636 г, из них около 15 г приходится на вставки. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что все звенья отлиты вместе с гнёздами для вставок; напаянных гнёзд нет. Вставки нигде не выдаются за срез гнезда, а в большинстве случаев не поднимаются до него.
Позолота имеется не на всей поверхности; там где она прослеживается, она слабая и светлая.
Все звенья пояса смонтированы в Эрмитаже на ткань, в которую зашиты куски тонкого пластинчатого металла, поступившие вместе с поясом и представляющие как бы остатки его основы.
В публикациях майкопского пояса, о которых речь ниже, имеется ряд ошибок. Так указывается, что в гнёзда вставлены не альмандины, а гранаты или сердолики; материал пояса в одном случае обозначен как «серебро или скорее бронза и серебро». Эти неточности однако не имеют значения для тех оценок пояса как памятника древнего искусства, с которыми мы встречаемся в литературе и на которых необходимо остановиться.
Вскоре после приобретения описанный пояс привлёк внимание М.И. Ростовцева, работавшего тогда над своими обобщающими исследованиями по истории культуры и искусства Северного Причерноморья в скифское и сарматское время.
В нашем поясе он увидел яркий пример сочетания позднего, послескифского, звериного стиля со стилем полихромным (вставки), а в изображении коня усмотрел ближайшую
аналогию известной эрмитажной золотой бляхе из бывшего собрания Кунсткамеры (рис. 2, 1) 1. [3]
Первое издание пояса М.И. Ростовцев дал в 1918 г. 2 [4] Оценивая это произведение, он пишет: «…недавно найденная серебряная золочёная художественная пряжка великолепнейшего целиком сохранившегося пояса из Майкопа, изображение на которой — крылатый грифон, умерщвляющий лошадь, по силе и экспрессии, по гениальности трактовки, по великолепной свежести и энергии мощного напряжения грифона и поразительному мастерству, с которым передана агония издыхающей лошади, далеко превосходит известную сибирскую бляху Эрмитажа, где грифон заменён тигром». Пояс этот М.И. Ростовцев считает «великолепным образчиком» возрождения звериного стиля в «эпоху позднего эллинизма» (т.е. близко к началу нашей эры) и показателем «ближайшей связи Кубани с Сибирью». По вопросу же о его происхождении автор полагает, что «вся трактовка упомянутого майкопского пояса указывает на иную среду, в которой он создался. Слышатся сильные китайские влияния, и потому представляется более вероятным, что возрождённый звериный стиль готовым пришёл из глубин Азии и на юг России, и в Сибирь».
В том же 1918 г. Ростовцев переиздаёт пояс и в своей популярной книге «Эллинство и иранство» 3, [5] отмечая здесь, что «в крыльях, составляющих основу орнаментации поясного набора, чувствуются мотивы, ведущие нас далеко на восток, в сферу китайского художественного творчества».
Вновь возвращается Ростовцев к майкопскому поясу и в последующих своих работах. Так, в книге «Скифия и Боспор» 4 [6] написанной ещё до 1918 г., как «превосходная аналогия» набору майкопского пояса упоминается сибирская золотая бляха с изображением грифона, схватившего быка 5. [7]
(165/166)

Рис. 2. 1 — Золотая пластина из Сибири; 2-3 — Серебряный пояс (Британский музей).
(Открыть Рис. 2 в новом окне)
В 1922 г. в Англии выходит расширенное издание «Эллинства и иранства», где автор вновь переиздаёт пояс и в тех же восторженных выражениях подробно описывает его, особенно подчёркивая прекрасное при способление изображений грифона и коня к форме и назначению соответствующих частей предмета. Датируется пояс, на основе наличия вставок «в технике выемчатой эмали» (на самом деле вставлены камни.
(166/167)
— А.И.), «не позже второго или первого века до н.э.» 1. [8] Сопоставляя пояс с сибирской бляхой с конём, М.И. Ростовцев приходит к заключению, что сходство их позволяло бы считать оба памятника изделиями одного мастера, если бы не замечалось существенного различия: «Пластина с Кубани полна жизни, сибирская вероятно воспроизводит часто повторявшийся мотив и поэтому ей недостаёт пафоса Кубанской пластины» 2. [9]
Майкопский пояс, вместе с тем, признаётся «несомненно импортом с востока» 3. [10]
В 1924 г. в статье о греко-сарматском и китайском искусстве Ростовцев ещё раз возвращается к майкопскому поясу, повторяя в основном то же описание 4. [11] В отличие от предыдущей работы, здесь отмечается, что вставки камней «производят впечатление грубо имитированной орнаментации выемчатой эмалью». Датировка пояса автором изменяется и вместо II-I вв. до н.э., он предлагает теперь относить пояс к III в. до н.э., а может быть даже к IV в. до н.э.
Основанием для такого изменения датировки послужило знакомство автора с другим поясом, поступившим в Британский музей «из Болгарии». Этот второй пояс, на котором мы должны будем остановиться, впервые был издан в 1923 г. 5 [12]
Приобретённый незадолго до этого, он якобы был найден в районе Софии вместе с двумя глиняными сосудами, пряжками и несколькими бронзовыми трёхгранными наконечниками стрел с короткой втулкой.
М.И. Ростовцев переиздаёт этот пояс (рис. 2, 2-3) и приводит его описание 6, [13] правильно видя в нём самую близкую аналогию к поясу Эрмитажа.
О поясе Британского музея на основании имеющихся описаний и воспроизведений, можно получить достаточно полное представление. Он, как и наш пояс, состоит из отдельных звеньев, изготовленных из серебра и позолоченных; два передних звена образуют пряжку. На левой от зрителя половине пряжки изображён обращённый вправо кабан, схвативший голову орла; последняя служит крючком правой половины пряжки. Позади кабана видны голова и рога оленя, обращённого влево. Перед оленем — какие-то растения. На другой половине орёл изображён сверху в распластанном виде; позади его туловища видны лапы с ягнёнком в когтях. Крылья орла своей орнаментацией ближайшим образом напоминают изображения крыльев на звеньях эрмитажного пояса. Примыкающие к пряжке звенья украшены каждое пятью гнёздами
с плоскими вставками красного цвета 1, [14] несколько иначе расположенными, чем на поясе Эрмитажа, где они образуют как бы голову летящей птицы. Здесь эти гнёзда передают нечто вроде схемы летящей птицы, а сверху и снизу к ним обращены парные головы орлов, составляющие передний край каждого звена. Как и у майкопского пояса, замыкающее заднее звено составлено путём удвоения боковых звеньев, но в отличие от него не имеет центральной накладки и вставки.
Считая, что изображения на этом поясе (трактовка кабана, голова оленя со стилизованными рогами, орлиные головки и общий стиль их) имеют ближайшие аналогии в находках из Александропольского скифского кургана, М.И. Ростовцев на этом основании датирует пояс III веком до н.э. По его мнению, майкопский пояс, по-видимому, ближе к «восточным» оригиналам (не указанным автором), тогда как на болгарском поясе видно сильное влияние скифского «звериного» стиля периода его упадка. Отсюда постулируется возможность датировать майкопский пояс несколько раньше болгарского.
В 1928 г. майкопский пояс переиздаёт в своей книге о скифском искусстве Г.И. Боровка 2. [15] Он считает его прямым импортом из Сибири. В другой своей работе, вышедшей в том же году, он пишет, что
(167/168)
изображения на поясе восходят к сибирским золотым бляхам, относимым им к IV в. до н.э. Однако, наличие цветных вставок на поясе заставляет Г.И. Боровку датировать пояс значительно более поздним временем — не ранее рубежа нашей эры 1. [16]
В следующем 1929 г. выходят две последних больших работы М.И. Ростовцева, посвящённых скифскому и сарматскому искусству. В этих работах обоим поясам, майкопскому и болгарскому, вновь уделено значительное внимание. В первой из этих книг оба пояса подробно описаны 2. [17] Майкопский пояс характеризуется как «одно из высших достижений звериного стиля в сочетании со стилем полихромным». Вновь, в другой формулировке, повторяется мысль, что майкопский пояс — оригинал большого мастера, тогда как сибирская золотая бляха с конём — только повторение 3. [18] Оба пояса считаются наиболее ранними образцами нового течения в искусстве, по мнению Ростовцева, связанного с проникновением сарматских племён на запад. Течение это характеризуется как «персидское» (т.е. «иранское» в узком смысле слова) в своей основе 4. [19] Дата обоих поясов вновь изменяется: так как в болгарском поясе М.И. Ростовцев усматривает воздействие скифского искусства III в. до н.э. (Александрополь), то датой поясов предполагается конец II в. до н.э. или несколько более раннее время. Сибирские золотые бляхи он относит к более позднему времени, но считает их не моложе I в. н.э.; в своём большинстве они не являются оригинальными произведениями, а повторяют широко распространённые композиции 5. [20]
В другой своей книге М.И. Ростовцев кратко упоминает оба пояса, отмечая их сходство с сибирскими бляхами, и связывает происхождение этого искусства с Ираном; «Всё это пришло в Срединную Азию из Ирана (отнюдь не из Греции и не с юга России)»; «ничто в этом стиле не ведёт на дальний Восток, в Китай» 1. [21]
Наконец, в 1931 г. Ростовцев в последний раз упоминает майкопский пояс, возражая против гипотезы Г.И. Боровки о его происхождении из Сибири 2. [22]
Новый элемент для оценки майкопского пояса внесла опубликованная в 1937 г. статья искусствоведа А. Салмони 3, [23] посвящённая хранящимся в Одесском музее свинцовым пластинам, на которых с некоторыми вариациями воспроизведены изображения пряжек майкопского пояса и пояса Британского музея.
Все эти пластины, найденные якобы в Ольвии, литые. Одна из них повторяет половину пряжки майкопского пояса с изображением коня (рис. 3, 1), отличаясь от последней наличием сплощного переднего края, соединяющего щею и голову лошади с крайним листом дерева и выдвинутой передней ногой 4 [24] Размеры пластины и пряжки совпадают; расхождение некоторых размеров при измерении в Одессе и в Ленинграде не превышают ни в одном случае 1 мм 5. [25]
Вторая пластина (рис. 3, 2) повторяет другую половину пряжки майкопского пояса. Она плохо сохранилась, разломана на три части, голова грифона отсутствует. Пластина имела прямую рамку со стороны задней части изображения, отсутствующую на серебряной поясной пряжке. У последней в выемку между крылом и задней лапой грифона входит головная часть примыкающего бокового звена пояса. Размеры и в этом случае совпадают с размерами пряжки 6. [26]

(168/169)
Рис. 3. 1, 2, 3 — Свинцовые пластины (Одесский музей).
(Открыть Рис. 3 в новом окне)
(169/170)
Третья и четвёртая пластины (см. рис. 3, 3), также частично повреждённые, соответственно повторяют обе половины пряжки упомянутого пояса Британского музея, отличаясь от них наличием замыкающей рамки не только с верхней и нижней сторон, как на поясе, но также и со сторон, обращённых к примыкающим звеньям пояса 1. [27] Так как обе эти пластины вплотную примыкают друг к другу, А. Салмони считал их за одну.
Рассматривая эти пластины, автор допускал мысль, что они могли служить в качестве моделей для воспроизведения в ином материале. Более же вероятным он считал, что они повторяли более ценные оригиналы и были изготовлены специально для включения в погребальный инвентарь 2. [28] Сопоставляя свинцовые пластины с обоими описанными поясами, А. Салмони полагает, что наличие повторений из малоценного материала свидетельствует о местном, причерноморском происхождении всех этих предметов, возражает против гипотезы Г.И. Боровки об импорте майкопского пояса из Сибири и вместе с Ростовцевым видит в сибирских золотых бляхах позднейшие повторения. В отношении абсолютной датировки поясов он также склонен принять точку зрения М.И. Ростовцева, но считает эти изделия скорее скифскими, чем сарматскими 3. [29]
В последующие годы, после появления статьи А. Салмони, специальных работ, посвящённых истории скифского и сарматского искусства почти не выходило. В частности, пояса из Майкопа коснулся только Е. Миннз в своей обзорной лекции по искусству «Северных кочевников» 4. [30] Он отмечает, что «патетическая выразительность лошади, как и известная сдержанная изысканность грифона по восприятию эллинистичны. Задние ноги лошади бьют воздух… Звенья пояса представляют летящих орлов; последним треугольные вставки в гнёздах причиняют насилие, но они являются элементом
длительно живущей традиции. Листья над животными вероятно в конечном счёте произошли от изображения рогов оленя. Аналогия (поясу) из Болгарии хранится в Британском музее. Удивителен факт, что в Одесском музее есть две свинцовые пластины, будто бы происходящие из Ольвии и воспроизводящие главные мотивы этих двух поясов. Но это западные отзвуки». Далее Миннз пишет о сибирских вещах собрания Кунсткамеры. Таким образом, Миннз, в противоположность М.И. Ростовцеву и А. Салмони, склонен, по-видимому, примкнуть к точке зрения Г.И. Боровки, не давая однако своей аргументации.
Как бы то ни было, в специальной литературе «майкопский пояс» прочно занял место одного из ярких образцов древнего скифо-сарматского искусства, причём занимавшиеся им авторы высказывали весьма различные точки зрения как по вопросу о месте его изготовления, так и по вопросу о его датировке. Эти колебания и расхождения во взглядах отнюдь не случайны. Они обусловлены характером самого предмета, крайне противоречивого стилистически и объединяющего элементы различного происхождения. Попытки разобраться в этом противоречивом единстве столкнулись с ещё большими трудностями после того, как стали известны свинцовые бляхи Одесского музея. Мы видели как опубликовавший их А. Салмони пытался преодолеть это затруднение. Однако решение вопроса пришло в другом направлении.
После появления статьи А. Салмони я первоначально склонен был видеть в одесских бляхах копии каких-то оригиналов типа сибирских золотых блях, что позволяло думать и об изготовлении «майкопского» и «болгарского» поясов где-либо в Причерноморье. Этот ход мысли в основном был оправдан, но с той существенной оговоркой, что я в то время бляхи Одесского музея и оба пояса считал древними. Сомнения в подлинной их древности у меня возникли много позже, после прочтения в 1945 г. упомянутой выше работы Е. Миннза, отмечающего, что факт существования одесских блях «удивителен» (strange). Ещё много позже удалось вплотную заняться «майкопским поясом» и тогда выяснились такие обстоятельства, которые позволили с полной ясностью решить этот вопрос. Как мне представляется, полученные резуль-
(170/171)
таты достаточно интересны, чтобы быть опубликованными.
Мы рассмотрим прежде всего вопрос об истории приобретения и происхождения майкопского пояса и свинцовых блях Одесского музея, а затем обратимся к технике изготовления пояса, а также к стилистическим особенностям изображений на нём и на несомненно с ним связанном поясе Британского музея.
Прежде всего при выяснении истории приобретения пояса, оказалось, что он был куплен у служащего отделения Русского Торгово-промышленного банка в Одессе И.Ю. Хмелиовского 1, [31] причём никаких подробностей о времени и месте находки, кроме указания на Майкоп, в архивных делах нет. Это же лицо присылало другие древние вещи в бывшую Археологическую комиссию с предложением купить их 2. [32]
После 1917 г. Хмелиовский эмигрировал и в 1922 г. распродавал на аукционе в Нью-Йорке свою коллекцию 3, [33] из состава которой Метрополитенский музей приобрёл бронзовое зеркало в деревянной оправе, снабжённое серебряной позолоченной крышкой со средней прорезью для зеркала и с широким ажурным краем из растительных побегов и фигур птиц (рис. 4, 1-2). Зеркало и крышка опубликованы в обстоятельной статье в 1947 г. 4 [34] Эта статья, одним из авторов которой была известный искусствовед-античник Г. Рихтер, вызвана сомнениями, высказанными не названным «выдающимся европейским археологом» по поводу подлинности указанной крышки. В статье подробно разбирается стиль изображений и устанавливается их близость изображениям на серебряной вазе из Чертомлыцкого кургана и на чаше оттуда же. Вместе с тем устанавливается, что крышка представляет собой литое повторение чеканного оригинала, изготовленного, примерно, в конце V в. до н.э. (т.е. по времени близко к комплексу Чертомлыцкого кургана). Дату самой крышки авторы относят «скорее к эллинистическому периоду», не приводя для этого утверждения аргументации.
Между тем внимательное рассмотрение опубликованных в упомянутой статье сведений и приложенных фотографий приводит к бесспорному выводу о поддельности серебряной крышки. Это заключение вытекает из следующих фактов:
1) Как видно из текста статьи, на деревянной оправе зеркала, прилегающей к ажурной крышке, нет никаких отпечатков этой последней, что было бы неизбежно, если бы крышка пролежала на зеркале в земле более 2000 лет. Это обстоятельство и вызвало первоначальные сомнения в подлинности крышки.
2) Крышка своей закраиной вплотную примыкает по всему периметру к деревянной оправе зеркала. Если бы крышка принадлежала к зеркалу, между её краями и краем оправы в результате усыхания и сокращения размеров дерева должен был образоваться заметный зазор.
3) Крышка не может принадлежать данному зеркалу, так как последнее, вместе с деревянной оправой, несомненно подлинно и относится к IV-V вв. н.э. (рис. 4, 3-4), тогда как крышка ничего общего со стилем этого времени не имеет и, по стилистическим особенностям, должна была бы относиться к гораздо более раннему времени.
4) Авторы публикации зеркала отмечают, что часть бронзовых гвоздей, которыми крышка закреплялась на деревянной основе, относится к современному «машинному производству», тогда как другие вероятно древние.
Таким образом, серебряная золочёная крышка явно не принадлежит данному зеркалу и, вместе с тем, по заключению её издателей, является не древним оригинаналом, а копией, повторением, изготовленным в более позднее время.
Для наших целей важен вывод, что в собрании Хмелиовского несомненно имелись вещи, специально приготовленные для
(171/172)

Рис. 4. 1-4 — Зеркало (Метрополитенский музей).
(Открыть Рис. 4 в новом окне)
антикварного рынка, комбинирующие подлинные и поддельные элементы. Это обстоятельство заставляет с особой осторожностью отнестись к покупкам из этого источника, из которого поступил и майкопский пояс 1. [35]
Требовало выяснения также и происхождение свинцовых пластин Одесского музея. По этому вопросу есть весьма показательные сведения.
«Две свинцовые пряжки с фигурами животных», будто бы найденные в Ольвии, были куплены музеем в 1912 г. за 1 р. 50 к. у неназванного лица. [36] Это несомненно описанные выше пластины с изображениями коня и грифона, композиционная связанность которых тогда не могла быть очевидной.
В следующем 1913 г. музей получил в дар от А.Л. Бертье-Делагарда, в числе
(172/173)
других вещей, «свинцовую пряжку с фигурами животных», несомненно тождественную двум пластинам с изображениями кабана и орла 1. [37] Откуда и когда эта «пряжка» поступила в собрание дарителя, установить не удалось, но вероятно это произошло совсем незадолго до передачи её в музей, о чём можно судить по следующим обстоятельствам.
В 1911 г. в предназначенном только для работников музеев издании было опубликовано датированное 7 мая 1911 г. письмо Э. Р. Штерна, только что перед тем, в марте, покинувшего Одессу, где он был председателем Одесского общества истории и древностей. В этом письме сообщается о привлечении его автора в качестве эксперта по гражданскому иску некоего Лемещинского к известному торговцу подлинными и поддельными древностями Л. Гохману, обвинённому в подделке монет. У следователя Э.Р. Штерн осматривал вещи, изъятые при обыске у Гохмана и у его сожительницы. Среди этих вещей он упоминает «несколько литых из олова широких поясных пряжек с ажурными изображениями фантастических чудовищ, птиц и т.п., выполненными частью в персидском, частью в «готском» стиле».
По этому же делу был произведён обыск у золотых дел мастера Гаврилина, у которого, между прочим, были изъяты «поясные пряжки из черноватой листовой бронзы, вычеканенные по оловянным формам, найденным у крестьянки (упомянутой сожительницы Гохмана — А.И.), которые затем вероятно должны были послужить для отливки в серебре или золоте» 2. [38]
Э.Р. Штерн сообщает, что Лемещинский затем отказался от своего иска и, следовательно, изъятые вещи должны были быть возвращены их владельцам.
Нет никаких сомнений в том, что «оловянные» пряжки, виденные Э.Р. Штерном, и были теми предметами, которые потом поступили в Одесский музей. Не исключено также, что их было больше. Очевидно они были проданы А.Л. Бертье-Делагарду и музею, когда у мастера надобность в них миновала, и когда видевший их Э.Р. Штерн, лучший в то время знаток одесских древностей и подделок, покинул Одессу.
В дополнение к приведённым данным следует сказать ещё несколько слов о деятельности одесской «школы» подделывателей древних изделий из драгоценных металлов.
Известно, что в Одессе в течение многих лет действовали торговцы древностями Ш. и Л. Гохманы. Они сумели привлечь замечательного ювелира И. Рухомовского, из рук которого вышел целый ряд «античных» вещей. Среди последних наиболее известна так называемая «тиара Сайтафарна», приобретённая в 1896 г. Лувром как подлинно-древняя и вызвавшая острую дискуссию и целую литературу 1. [39] После скандала с тиарой, Ш. Гохман отошёл от торговли поддельными древностями, а Рухомовский через несколько лет переехал в Париж. Младший брат Л. Гохман продолжал свою деятельность в Одессе до Октябрьской революции, торгуя сам или через подставных лиц поддельными, а также и подлинными древностями. Как сообщал Э.Р. Штерн, после разоблачения тиары Гохман перешёл на торговлю поддельными древностями из серебра, причём в значительной мере переориентировался на так называемые «готские» вещи со вставками подлинных альмандинов, которые добывались при хищнических раскопках в Керчи. Эти изделия для Гохмана выполнял керченский ювелир Кац. Серебряные изделия по заказам Гохмана изготовлялись и в Одессе. Большая часть подделок предлагалась в качестве находок, сделанных якобы в Ольвии. В целом ряде случаев поддельность вещей, купленных у Гохмана и его агентов музеями и частными коллекционерами, была тогда же установлена 2. [40]
После Октябрьской революции Л. Гохман эмигрировал и в 1920-х годах жил
(173/174)
в Берлине 1. [41] Есть все основания считать, что им были вывезены из Одессы или готовые поддельные вещи или же сам работавший на него мастер. Во всяком случае, мы имеем сообщение о третьем серебряном поясе, появившемся в Берлине в 1923 году и, судя по всему, вышедшем из рук того же мастера, что и пояса «майкопский» и «болгарский». Пояс этот, якобы принадлежавший «южнорусскому банкиру» Реш, был предложен к покупке сначала Доисторическому отделению берлинских музеев, а в 1924 г. Оружейному музею в Берлине (Zeughaus). Оба раза предложение было отклонено.
В первый раз предлагался целый комплекс вещей, будто бы найденных в одной могиле на юге России. В составе его были подлинные меч и серебряные пряжки, кольца, фибулы со вставками альмандинов. В этот же комплекс, кроме пояса, входили серебряный щит и умвон с изображениями зверей, сразу же признанные поддельными. В 1924 году две последних вещи уже не предъявлялись, а пояс был признан проф. Р. Цаном (R. Zahn) «подделкой Гохманского сорта». Пояс состоял из 14 прямоугольных серебряных частей, насаженных на кожаный ремень. На каждой пластине размещалось по две полоски со вставками прямоугольных альмандинов. Между этими полосками на 12 пластинах помещены по 2 рельефных цикады, а на двух конечных пластинах — по рельефному изображению крылатого быка. В крыльях цикад и быков — вставки круглых (tropfenförmig) альмандинов.
При экспертизе было отмечено, что мотив цикады и вставки альмандинов, если бы они были древними, указывали бы на V в. н.э., тогда как стилизованные в ахеменидском стиле крылатые быки должны были бы относиться к «греко-персидскому» искусству. Сочетание этих элементов в одном изделии явно невозможно 2. [42] Дальнейшая судьба этого пояса нам неизвестна.
Таким образом, можно считать установленным, что «майкопский пояс» в действительности происходит из одесских мастерских, работавших на Гохмана. Остаётся выяснить особенности процесса изготовления этого предмета.
Прежде всего следовало бы уточнить соотношение одесских блях и двух поясов — Эрмитажа и Британского музея. Приведённые выше сведения не оставляют сомнения в том, что бляхи Одесского музея представляют собой вариант обоих [обеих] поясных пряжек, предшествовавший их окончательному оформлению в серебре. Об этом свидетельствуют прежде всего некоторые детали свинцовых блях, отсутствующие на пряжках поясов, например, части рамок. Вместе с тем остаётся недостаточно выясненным соотношение свинцовых блях и упомянутых Э.Р. Штерном «вычеканенных» (или тиснёных) по этим бляхам бронзовых пряжек, которые, по его мнению, должны были послужить для отливки в серебре или золоте.
К сожалению в дальнейшем Э.Р. Штерну остались неизвестными оба серебряных пояса и он поэтому не имел случая вернуться к этому вопросу, что было бы особенно ценно, так как только он один видел эти бронзовые пластины.
Э.Р. Штерн предполагал, что бронзовые (или скорее медные — А.И.) пластины могли быть получены чеканкой или тиснением на свинцовых матрицах, после чего в этих медных формах были отлиты серебряные пряжки поясов. Такой порядок производственных операций в принципе представляется возможным, но в этом случае на мягких свинцовых пластинах должны были бы сохраниться следы ударов по тонкому медному листу, чего мы в действительности не видим.
Поэтому не исключено, что медные пластины получены не тиснением, а гальванопластическим путём. В пользу такого предположения мог бы свидетельствовать и отмеченный Э.Р. Штерном «черноватый» цвет «бронзы». Этим замечанием он, возможно, охарактеризовал своеобразный оттенок медных гальванокопий. Технически получение тонкостенной съёмной медной формы по металлической модели гальванопластическим путём представляется вполне возможным.
Оба эти предположения вследствие утраты упомянутых Э.Р. Штерном «бронзовых» пластин сейчас не могут быть проверены.
С другой стороны, следует отметить, что обе половины пряжки эрмитажного пояса с обратной стороны не плоские, а имеют
(174/175)
углубления, повторяющие основной рельеф лицевой стороны. Это обстоятельство позволяет считать, что части пряжки отливались по восковой модели, выдавленной на твёрдой основе, служившей матрицей; возможно, что этой основой и были медные формы.
Таким образом, вероятная последовательность основных операций по изготовлении [изготовлению] серебряных поясных пряжек представляется в следующем виде:
1) Изготовление первоначальной модели в пластическом материале, скорее всего в воске.
2) Отливка свинцовых блях по этой модели с утратой формы.
3) Получение медной тонкостенной формы тиснением или гальванопластическим путём.
4) Изготовление новой восковой модели на медной матрице и её доработка.
5) Отливка окончательного изделия по этой модели с утратой формы.
Изготовление остальных звеньев поясов, судя по эрмитажному экземпляру, было проще. Эти звенья, по-видимому, были отлиты с использованием открытой твёрдой формы, позволяющей многократное повторение отливок; об этом свидетельствуют плоская оборотная сторона звеньев и неодинаковая их толщина.
Как эти звенья, так и части пряжки, после отливки подвергались дополнительной обработке, вплоть до золочения, заполнения гнёзд для вставок и напаивании [напаивания] скоб на обратной стороне.
Из сказанного видно, что нет абсолютно никаких оснований усматривать в свинцовых бляхах Одесского музея какие-то подлинные древние вещи, по которым затем, уже в наше время, были изготовлены пряжки серебряных поясов.
Что касается самого «майкопского пояса», то детальное обследование его указывает на литую структуру металла и отсутствие сколько-нибудь существенных признаков коррозии, что позволяет говорить о недавней отливке 1. [43] Позолота нанесена через огонь , [44] т.е. способом, известным и в древности, а следовательно маскирующим современное происхождение изделия. Альмандины для вставок, по-видимому, использованы древние из хищнических раскопок. Следует признать, что повреждения пояса (отсутствие некоторых гвоздиков, скоб и вставок, неполнота одного звена, повреждения серебряных подкладок под пряжкой) также сделаны преднамеренно для имитации его древности.
Следовательно «майкопский пояс», как и пояс Британского музея, в целом относится к изделиям нашего времени и лишь имитирует памятники древнего искусства. Если это так, то представляет несомненный интерес выяснить источники творчества мастера, изготовлявшего эти пояса, творчества, введшего в заблуждение ряд крупных специалистов.
Выше мы видели, что стилистические особенности изображений на обоих поясах заставили исследователей, и прежде всего М.И. Ростовцева, обратить внимание на сочетание в них разнородных черт — ранних и более поздних в одних случаях, западных (скифских) и восточных (иранских, сибирских) в других. Отсюда проистекают колебания в датировках поясов и определение их как важных опорных памятников переходного времени, когда собственно «скифский» стиль звериных изображений сменялся более поздним «сарматским».
Несомненное смешение различных и разновременных стилистических черт и декоративных элементов на обоих поясах, как нам кажется, поддаётся объяснению.
Если обратиться к поискам тех источников, на изучении которых мастер мог основывать свои композиции, то прежде всего следует иметь в виду, что группировавшиеся вокруг одесских торговцев древностями мастера несомненно видели много подлинных древних вещей, происходивших главным образом из хищнических раскопок в Ольвии и в Керчи. Но главным и основным источником в данном случае бесспорно были репродукции древних вещей в изданиях, так как оба пояса основными своими изображениями уводят нас далеко за круг находок, известных из Ольвии и Керчи.
Если же вспомнить, какими изданиями мог располагать мастер, работавший около 1910 г., то прежде всего приходится обратиться к «Русским древностям» И. Толстого и Н. Кондакова, а именно к III их выпуску, посвящённому «Древностям времён переселения народов». В отличие от других
(175/176)
выпусков этого издания и от всех других возможных источников, здесь можно найти вполне близкие и убедительные аналогии для всех основных изображений и отдельных деталей, представленных на обоих поясах. Результаты сопоставления, на которых сейчас уже нет надобности подробно останавливаться, можно свести в виде таблицы.
Элементы изображений на поясах |
Аналогии |
Издание:
Р.Др. III 1 [45]
рис. |
[Издание:]
A.R.M. 2 1, [46]
рис. |
Издыхающий конь |
Сибирская золотая бляха |
62 |
351 |
Разворот его задних ног |
Сибирская золотая бляха |
57 |
346 |
Грифон |
Сибирские золотые бляхи |
64 и 65 |
353 и 354 |
Скульптурная голова грифона на плоско-рельефном изображении |
Голова орла на сибирской бляхе |
43-44 |
332-333 |
Деревья и листья |
1) На сибирских золотых бляхах |
69, 70, 57, 58 |
358, 359, 346, 347 |
|
2) На золотой бляшке с Кубани |
151 |
440 |
Кабан: уши |
На сибирских золотых бляхах |
54, 55 |
343, 344 |
[Кабан:] ноги |
На «сасанидских» серебряных блюдах |
84, 90 |
373, 379 |
Олень |
На поздней серебряной чаше из Пермской губ. |
89 |
378 |
Летящий орёл |
Золотая бляха из Сибири |
43-44 |
332-333 |
Ягнёнок в когтях орла |
Козёл в когтях орла на сибирской золотой бляхе |
43-44 |
332-333 |
Крылья на звеньях эрмитажного пояса |
1) Сибирская золотая бляха |
43-44 |
332-333 |
|
2) Позднее серебряное блюдо из дер. Мальцевой |
95 |
384 |
Головы птиц на звеньях пояса Британского музея |
Золотая фигурка орла из Сибири |
45 |
334 |
Гнёзда для вставок с плоским срезом |
Украшение узды из Кудинетова, ок. V в. н.э. |
172 |
461 |
Плоские вставки |
Предметы из разных мест |
162, 166, 172 и др. |
451, 455, 461 и др. |
Нет сомнения, что заказчик и исполнитель обоих поясов располагали и другими источниками для копирования и подражания. В частности, вполне возможно, что для изображения кабана одним из образцов могла послужить золотая фигурка, найденная в окрестностях Букони в Восточном Казахстане 3. [47] Для плоских вставок богатый сравнительный материал можно было почерпнуть из изданий, а подлинные образцы — из хищнических раскопок в Керчи, с производителями которых одесские подделыватели были связаны.
Всё же кажется совершенно бесспорным, что основным источником послужил III выпуск «Русских древностей» [48], где под одним хронологическим определением «Древности времён переселения народов» объединены совершенно разнородные материалы, и в частности использованные для поясов золотые предметы сибирской коллекции Кунсткамеры, относящиеся к разным столетиям до начала н.э., сарматские и более поздние памятники Северного Причерноморья, а также сасанидское серебро III-VII вв. н.э.
Так как пояса были изготовлены скорее всего около 1910-1912 гг. (одесские свинцовые бляхи поступили в музей в 1912-1913 гг.), то мастер мог вполне опираться
(175/176)
на суммарную датировку «Русских древностей». Лишь значительно позже, в период 1918-1930 гг., появились работы, позволившие со всей определённостью установить более раннюю датировку сибирских золотых пластин.
Этим обстоятельствам очевидно и объясняется сочетание в обоих поясах элементов «сибирских», восходящих ко времени ещё до н.э., и элементов более поздних, характерных примерно для середины I тыс. н.э.
К последним мы отнесём плоские вставки красного камня, гнёзда для них с плоским срезом и ряд изобразительных элементов, перечисленных выше.
Если же задать вопрос, что же мастер внёс в композицию обоих поясов своего, нового, то нужно будет признать, что таких самостоятельных элементов очень немного. Прежде всего это общая схема пояса, более цельная и органичная на экземпляре Эрмитажа и явно менее удачная на экземпляре Британского музея (нелепое построение боковых звеньев с оторванными от основной композиции орлиными головками, как бы выглядывающими из-за краёв пояса; композиционная незавершённость заднего, замыкающего звена) 1. [49] Пряжки, судя по свинцовым прототипам, первоначально были задуманы в виде прямоугольных пластин с рамкой, как на многих сибирских золотых бляхах. Позже мастер от ободка рамки в ряде мест отказался, что позволило сочетать центральные звенья пряжки с боковыми частями пояса.
Отсутствуют в приведённых нами сопоставлениях и такие элементы, как четвероногость грифона и известная реалистичность в изображении его мясистых лап. С другой стороны, в древних образцах не встречается комбинация из 5 гнёзд для цветных вставок, подобная применённой в двух различных вариантах на обоих поясах.
Несомненно, что мастеру удалось создать очень эффектные и на первый взгляд правдоподобные сочетания изображений и декоративных элементов, благодаря чему оба пояса долго не вызывали сомнений в их подлинности и были описаны в качестве важных опорных памятников для понимания развития искусства в Причерноморье и Сибири.
Сейчас не остаётся сомнений в том, что от такого использования этих поясов приходится отказаться. Они представляются нам не памятниками скифского или сарматского искусства, а яркими образцами процветавшего в начале нашего века поддельного производства на антикварный рынок.
Заканчивая наш разбор, мы приходим к следующим выводам:
1. — «Майкопский пояс» несомненно вышел из рук способного мастера, но не в древности, а в начале нашего столетия. Принадлежит он к продукции той же одесской школы подделывателей «античных» изделий торевтики и ювелирного дела, из которой вышли и многие другие предметы. Некоторые из них, как, например, известная «тиара Сайтафарна», в своё время были разоблачены, другие были сразу отвергнуты, как явно несообразные.
2. — Имя мастера, изготовившего пояс, установить не удалось (возможно, что им был упомянутый выше Гаврилин), но ему же несомненно следует приписать изготовление пояса Британского музея и пояса, предлагавшегося к приобретению Берлинским музеям.
3. — История «майкопского пояса» ещё раз напоминает о необходимости крайней осторожности при рассмотрении предложений к приобретению «древних» вещей из «случайных находок», не документированных научно. В частности, можно думать, что после 1917 г. одесская мастерская подделывателей была перенесена куда-то на запад, может быть в Среднюю Европу или на Балканский полуостров. Было бы очень желательно, чтобы специалисты обратили внимание на приобретённые в 1910-е и 1920-е гг., а отчасти и позже, предметы из золота и серебра, а иногда, может быть, и из бронзы, якобы найденные в «Южной России» и в странах Балканского полуострова и поступившие путём покупки в европейские и американские музеи. Не имея случая видеть соответствующие оригиналы, мы можем только отметить, что некоторые из таких приобретений последних десятилетий, судя по их воспроизведениям в печати, вызывают серьёзные сомнения в их подлинной древности.
[1] 1 Пояс записан 26/XI 1916 г. под №F-18295 в книгу новых приобретений по отделению древностей. В настоящее время числится в собраниях отдела истории первобытной культуры под №2146/1.
[2] 2 Определение реставратора Эрмитажа И.П. Андреева.
[12] 5 British Museum. Guide to Anglo-Saxon Antiquities, 1923, стр. 170 и рис. на стр. 169 (показаны передняя и задняя часть пояса). Передняя часть пояса издана также у О.М. Dalton. The Treasure of the Oxus, 2-e изд., London, 1926, стр. LVI, рис. 35.
[14] 1 Материал вставок в путеводителе Британского музея назван гранатом, а у Ростовцева сердоликом. У Далтона говорится о «красной пасте» (стр. LII, прим. 3), а в подписи к рис. 35 — о «красных камнях».
[15] 2 G. Borovka. Scythian Art. London, 1928, стр. 58-59 и табл. 46, В.
[16] 1 G. Вorovka. Kunstgewerbe der Skythen. «Geschichte des Kunstgewerbes», herausg., v. H.T. Bossert, T. V, Berlin, 1928, стр. 144.
[25] 5 Измерения в Одессе выполнены Л.А. Мацулевичем и любезно сообщены мне.
[27] 1 А. Sаlmony, ук.соч., рис. 1 на стр. 93; пластина с кабаном — Одесский музей, №6011; пластина с орлом — №6012.
[30] 4 Е.Н. Minns. The Art of the Northern Nomads. Proceedings of the British Academy, XXVIII, London, 1944 [том вышел в 1942], стр. 25-26 отдельного оттиска, табл. XVI — А.
[31] 1 Архив Государственного Эрмитажа, Опись V, дело 1916/10, лл. 43-44; Архив Лен. отд. ИИМК АН СССР, ф. I, д. 1916/5, л. 86.
[32] 2 Архив Лен. отд. ИИМК АН СССР, ф. I, д. 1916/5, лл. 93-96.
[33] 3 Аукционный каталог, цитируемый в статье, приведённой в следующем примечании, мне недоступен: «The Remarkable Greek Archaeological Collection from Olbia in South Russia excavated during the past ten years by and under the supervision of the present owner Mr. Joseph Chmielowski», at the American Art Galleries, on Feb. 23-25, 1922, №753. Указание в заглавии каталога на «раскопки» Хмелиовского в Ольвии ложно.
[34] 4 Gisela М.А. Richter and Christine Alexander. A Greek Mirror ancient or modern? American Journal of Archaeology, LI, 1947, 3, стр. 221-226, табл. XLII-XLVII.
[35] 1 Нельзя не обратить внимания на приведённые в публикации зеркала Хмелиовского аналогичные находки зеркал с серебряными золочёными крышками в музеях Венском, Брюссельском и Британском (G. Richter and С. Alexander, ук.соч., стр. 225-226 и табл. XLVI и XLVII). Все они приобретены у торговцев древностями и происходят якобы из «Южной России» (первые два) и из Болгарии (последнее). Не имея возможности судить о подлинности накладных крышек этих зеркал, отметим, что в раскопках подобные изделия, насколько известно, до сих пор не встречались. С другой стороны, в отношении Брюссельского зеркала указано, что бронзовая оправа его задней стороны и гвозди оказались новыми.
[36] 1 ЗООИД, XXXI, 1913, Протоколы, стр. 86; 418-е заседание, 16/Х 1912 г., п. 9, сообщение хранителя музея А.И. Селенгинского. № музея V б., 152; соответствует №№6010 и 6013 позднейшей инвентаризации.
[37] 1 ЗООИД, XXXI, 1913. Протоколы, стр. 112; 422-е заседание, 29/III — 1913 г., п. 9; № музея V б., 153, очевидно соответствующий №№6011 и 6012 позднейшей инвентаризации.
[38] 2 Mitteilungen des Museen-Verbandes, 310. Июнь, 1911, стр. 18-20.
[39] 1 Последнее изложение всей истории тиары см. у А. Vayson de Pradenne. Les fraudes en archéologie préhistorique. Paris, 1932, стр. 519-573. О работах Рухомовского см. анонимную брошюру: Израиль Рухомовский и его работы, иллюстрированный критико-биографический очерк, Одесса, изд. Б. Сапожникова, 1903.
[40] 2 Mitteilungen des Museen-Verbandes, 256. Июль, 1910 г., стр. 7-11; 432, 1913 г., стр. 47-53 (сообщения Э.Р. Штерна).
[41] 1 Устное сообщение покойного О.Ф. Вальдгауера, которому Гохман предлагал свои услуги по приобретению вещей для Эрмитажа.
[42] 2 Mitteilungen des Museen-Verbandes, 527, 12 августа 1925 г., стр. 18 (сообщение Falke).
[43] 1 Заключение ст. реставраторов Государственного Эрмитажа Д.И. Смирновой и И.Л. Ногид.
[44] 2 Заключение реставратора Государственного Эрмитажа П.И. Захарова.
[47] 3 OAK, 1892, стр. 94, рис. 56; Альбом рисунков, помещённых в ОАК за 1882-1898 гг., стр. 331, рис. 2208; Я.И. Смирнов. Восточное серебро, СПб., 1909, табл. XLIII, рис. 13. [Дана ссылка на вещь из Сибирской коллекции, см. на сайте Эрмитажа.]
[48] 1 Вышедший в 1909 г. альбом Я.И. Смирнова «Восточное серебро» мог дать образцы только для изображений кабана (табл. XXV, №53; XXIX, №57; XXX, №58) и заштрихованных крыльев (табл. XXVII, рис. 9-10; LIV, №88; LIX, №93; ХС, №162; CXV, №288).
[49] 1 Более низкий художественный уровень пряжки пояса Британского музея по сравнению с пряжкой пояса Эрмитажа отмечен у О.М. Dalton, ук.соч. стр. LII, прим. 3.
наверх
|
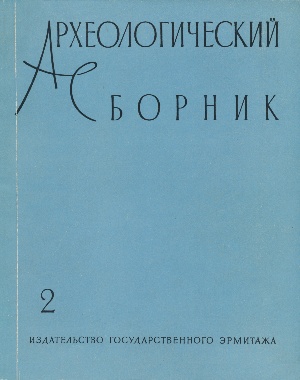 А.А. Иессен
А.А. Иессен


