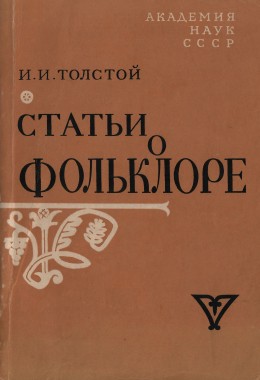 И.И. Толстой
И.И. Толстой
Черноморская легенда о Геракле и змееногой деве.
Среди других преданий Северного Причерноморья сохранилась у Геродота пересказываемая им со слов местных греков интересная легенда о происхождении скифских царей от греческого героя Геракла. Легенда говорит о том, как Геракл, поборовший могучего Гериона и завладевший стадом его коров, гнал это стадо с крайнего запада на далёкий восток и как на своём пути герой достиг наконец пределов той холодной и в то время ещё вовсе безлюдной страны, которая получила впоследствии название Скифии. Там, устраиваясь на ночлег, Геракл выпряг кобылиц из своей колесницы и пустил их пастись на свободе, сам же закутался в свою львиную шкуру, так как было морозно, и крепко заснул. А пока он спал, его лошади куда-то исчезли. Проснувшись, Геракл пустился на поиски лошадей и в конце концов забрёл в ту местность, которая и при Геродоте, и много позже называлась Гилеей. Здесь он увидел пещеру, а в пещере — владычицу той земли, змееногую деву, заявившую ему, что лошади его находятся у неё и что она вернёт ему их лишь тогда, когда он согласится вступить с ней в брачную связь. Геракл согласился и жил со змееногой девой, пока та не вернула ему коней, родив ему за это время трёх сыновей. Отправляясь в дальнейший путь и расставаясь со змееногой девой, Геракл оставил ей на прощание свой лук и свой пояс и посоветовал ей испытать сыновей, когда те возмужают, и царём страны сделать того из них, который окажется в силах натянуть лук отца и опоясаться отцовским поясом. Геракл ушёл, дети выросли без него, и ни Агафирс, ни Гелон, старшие сыновья, натянуть тетиву Гераклова лука и опоясаться Геракловым поясом не смогли, а их младший брат Скиф выполнил оба задания. Поэтому Скиф и остался править страной, а оба его брата ушли в изгнание. От
(232/233)
этого-то Скифа, сына Геракла, будто бы, по преданию, и пошли все дальнейшие цари скифов. [2]
Геродот указывает свой источник: «Так рассказывают, — говорит он, — живущие на Понте греки». И указание это получает для нас тем большую силу, что легенда, слышанная им от черноморских греков, противополагается им (начало 8 главы) легенде скифской, повествующей тоже о древнейшем скифском царе, но образующей совершенно иной сюжет. Родоначальником царей Скифии был, согласно этой скифской легенде, младший сын старейшего аборигена страны, Колаксай, поднявший с земли упавшие с неба и горевшие неугасимым огнём золотые орудия земледелия, езды, войны и пира: плуг, ярмо, секиру и чашу. Его старшие братья Липоксай и Гарпоксай и подступиться не могли к этим пылавшим предметам, а Колаксай смело к ним подошёл и их поднял, потому что огонь при его приближении к ним вдруг потух. [3] «Так рассказывают о себе и о своей стране скифы, а живущие на Понте греки рассказывают, — подчёркивает Геродот, — иначе»: греки сообщают легенду о Скифе, сыне Геракла.
Не трудно заметить, что эта последняя распадается на две части: первая говорит о Геракле и гилейской змееногой нимфе, вторая о Скифе, их сыне. Первая построена на четырёх внутренне сцепленных одно с другим звеньях повествовательной цепи. Звено первое: пока герой спит, его лошади попадают к нимфе. Второе звено: пробуждение, поиски и встреча героя с нимфой, завладевшей его лошадьми. Звено третье: готовность нимфы вернуть лошадей герою, если тот согласится вступить с ней в брачную связь. Четвёртое звено: обоюдное выполнение принятого той и другой стороной условия. К мифу о быках Гериона, этому популярнейшему общеэллинскому сказанию о том, как однажды боролся Геракл с трёхтелым сказочным великаном Герионом, или Герионеем, и как, убив его, он угнал стадо его коров или быков, легенда о скифской пещерной нимфе, конечно, никакого отношения не имеет. Увязана она с этим мифом искусственно, по всей вероятности, самим Геродотом, стремившимся, может быть, дать таким путём логическое обоснование местному легендарному сказанию о заходе Геракла в Скифию. Дополнительно Геродот поделился с читателем своими географическими соображениями о местоположении острова Гериона, Эрифии, упомянул и о «столбах Геракла», сказал несколько слов и о предположительном направлении течения вод Океана, придав здесь своему изложению характер одной из тех многочисленных учёных справок, какими так богата его «История».
Упоминаемое Геродотом стадо Гериона, которое Геракл в его рассказе гонит перед собой, никакой роли в дальнейшем течении
(233/234)
сообщаемой Геродотом легенды о происхождении скифских царей не играет, и это делает особенно ясной всю искусственность той случайной связи, какая в повествовании Геродота соединяет два совершенно независимых один от другого мифа: сказание о Герионе и историю встречи Геракла с гилейской нимфой. К тому же миф о Герионе говорит о быках, а история, передаваемая Геродотом, рассказывает о лошадях — деталь, безусловно заслуживающая большого внимания, так как образ героя, разъезжающего на повозке, в которую запряжены кони, для греческих мифов о Геракле совсем необычен: Геракл греческого мифа ходит пешком. Эта странная колесница Геракла, собственно, и подсказала Клингеру правильную, очевидно, мысль о том, что в повествовании Геродота фигура греческого Геракла заменяет фигуру какого-нибудь скифского божества: «…на скифское происхождение этой саги, — говорит он, [4] — указывает присутствие в ней коней и колесницы, которое не играет никакой роли в эллинском мифе о Геракле и которое составляет необходимую часть домашнего обихода северных кочевников». К аналогичному предположению пришёл до Клингера и Всеволод Миллер, по мнению которого греки несомненно «только эллинизировали скифское предание, подставив своего Геракла на место соответствующего скифского божественного героя». [5] Соображения Клингера были по достоинству оценены и приняты и Али, также усматривающим в рассказе Геродота подлинно скифский миф, лишь одетый в греческие одежды (echte Spythensage in griechischem Gewande). [6] Справедливость такой точки зрения вряд ли можно серьёзно оспаривать, а потому и внимание здесь надлежит обращать не на имя героя, а на общий контур сюжета. И действительно, в той параллельной версии, которая дошла до нас в изложении Диодора, мифическим родоначальником скифских царей оказывается уже не Геракл, а Зевс. «Скифы рассказывают, — говорит Диодор, [7] — что некогда появилась у них рождённая землёй дева, у которой верхняя половина тела, начиная от пояса, была женской, нижняя же — змеиной, и что соединился с ней Зевс, от которого у неё родился сын по имени Скиф. Славой превзойдя всех своих предшественников, назвал этот Скиф по имени своему и народ свой скифами». Третья версия того же сказания, опять-таки с Гераклом в качестве главного персонажа, сохранена нам текстом той, тоже поздней, римского времени, надписью, которая перечисляет разнообразные деяния Геракла. [8] Строки 87 и сл. этой надписи говорят о подвигах Ге-
(234/235)
ракла во Фракии, об основании им города Абдеры и о расправе его с сыновьями Борея и Орифии. Из Фракии Геракл переправляется в Скифию (строки 94 и сл.): «Переправившись же отсюда в Скифию, он (Геракл) в схватке победил Аракса и, вступив в связь с его дочерью Ехидной, произвёл сыновей, Агафирса и Скифа». Итак, в этой эпиграфической версии отец Скифа отожествлён с Гераклом, а змеиная природа матери, которая в легендах, сообщаемых и Геродотом, и Диодором, полуженщина, полузмея, вполне ясно охарактеризована её именем Ехидна, в переводе на русский язык и значащим именно «змея». [9]
Хорошо известно, что в греческом мифе змеевидность бога или героя обычно указывает на хтонизм образа. Представление о теснейшей связи божественной праматери скифских царей с самой почвой Скифии, с её землёй, выражено и легендой о змееногой нимфе, особенно ясно той версией, которая сохранилась у Диодора: змееногая дева скифов, согласно этой версии, рождена землёй (она γηγενὴς παρϑένος). Особое место, конечно, занимает вопрос о том, принадлежит ли образ мифической матери легендарного Скифа всецело сказке или он так или иначе обусловлен культовой, ближе нам неизвестной фигурой скифской богини. Трудно решить, имеем ли мы в самом деле право сопоставлять эту змееногую нимфу с тем верховным женским божеством скифов, предположительное изображение которого мы находим на золотой пластине женского головного убора из кургана Карагодеуашха: [10] изображённая на этой пластине богиня не змеенога. Она представлена в виде степенной женщины, спокойно восседающей на кресле. Одета она в длинный рукавный хитон, а поверх хитона — в широкий талар из тяжёлой ткани. Голову богини украшает высокий, видимо богато отделанный, клобук. [11] Приходится оставить под вопросом, являются ли обе богини, т.е. женщина золотой пластины Карагодеуашха и гилейская змееногая дева, лишь различными аспектами одного и того же женского божества скифов или это две особые богини, одну из которых
(235/236)
скифы представляли себе в виде женщины, а другую — в смешанном облике полуженщины, полузмеи, символически выражавшем автохтонность богини. Но, поскольку рассказ Геродота, надо думать, восходит действительно к национальной скифской легенде, мы имеем полное основание предполагать, что о змеевидности гилейской богини говорила и эта легенда. Что касается греков, то для них змеевидность божества как символ связи этого последнего с почвой была одним из самых привычных образов. Достаточно вспомнить типичные фигуры Кекропа, Эрихтония и Тифона, у которых туловище ниже пояса переходит в змею. Знакомы греческой мифологии и женские змеевидные образы: так, ещё «Теогония» Гесиода (ст. 295 и сл.) говорит об Ехидне (Ἔχιδνα), полуженщине, полузмее, таящейся далеко от богов и людей в скалистой пещере. В античную художественную литературу женские змееногие демоны греков почти совсем не вошли, и ходившие о них мифы от нас поэтому скрыты, но о тех народных и, без сомнения, очень древних представлениях, какие некогда соединялись с ними, иногда сообщает нам интересные сведения греческая вазовая живопись: так, на рисунке мюнхенской чернофигурной вазы, изданной J. Böhlau, [12] женские полузмеиные существа выступают в роли добрых гениев виноградника. Сгруппированные в две пары четыре нимфы, у которых нижняя часть тела переходит в змею, мирно ползают по земле под ветками виноградных лоз, образуя контраст фигурам шести коз, изображённых на противостоящей части рисунка объедающими виноградные молодые побеги. Не вредоносным, а, напротив, благим существом оказывается и гилейская нимфа: коней Геракла, заблудившихся или сознательно ею самой похищенных, она укрывает в своей пещере и затем их ему возвращает.
В общение с богиней Геракл у Геродота вступает вслед за совершением подвига борьбы с Герионом. И хотя фигура Гериона никакого отношения к скифской легенде, понятно, и не имеет, сам по себе мотив борьбы героя как момент, предшествующий мотиву соединения пришлого героя с демонической девой, может, однако же, принадлежать к числу основных компонентов сюжета. У Геродота мотив этот искажён привнесением в него чужой ему фигуры греческого Гериона, вследствие чего он и кажется нам весь целиком искусственным. Но в более чистом виде он сохранён для нас эпиграфической версией, согласно которой Геракл становится мужем Ехидны, лишь одолев отца девушки, царя Аракса. Предание о борьбе, героем которой греческие писатели опять-таки называют Геракла, связывается и с историей основания Апатура, того знаменитого святилища в Фанагории, где почиталась богиня, являвшаяся тоже местным божеством, если и не тождественным,
(236/237)
то, по всей вероятности, очень близким женскому божеству скифов. Боспорские греки, творившие этой богине культ, почитали в ней Афродиту. В сохранившейся у Страбона легенде [13] на Афродиту нападают гиганты, но богине удаётся от них избавиться: путём «обмана» (apáte): [14] в пещере своей, там, где впоследствии построен был Апатур, Афродита прячет Геракла, а затем, приглашая к себе в пещеру каждого из гигантов порознь, предоставляет Гераклу расправляться с ними поодиночке. Итак, нападение великанов на богиню и помощь героя, её спасающего, — такова сюжетная схема легенды апатурского святилища Афродиты Урании. В связи с этим будет интересно, пожалуй, отметить, что и на том сохранившем древнейшее для нас эпиграфическое свидетельство [15] о культе апатурской богини и впоследствии, очевидно, погибшем мраморном посвятительном рельефе, который был зарисован Мотрэ, изображён был рядом с Афродитой, весьма возможно, именно Геракл. [16] По-видимому, на основе скифской же мифологической традиции вели свой род от Геракла и позднейшие цари Боспора: почётная надпись боспорского хилиарха Ульпия Антисфена, 216 г. до н.э. на мраморной базе статуи, воздвигнутой им Раскупориду II, даёт официальный титул этого боспорского царя, намекающий совершенно определённо на происхождение предков Раскупорида и его отца, Савромота[Савромата] II, «от Геракла и Епмолпа, сына Посейдона» (ἀφ Ήρακλέου[ς] ϰαὶ Εὐμόλ[πο]υ τοῦ Ποσειδῶνος). [17] Это родословие, может быть, также в какой-то мере следует сопоставлять со сказочным скифским преданием о происхождении царей Скифии от Геракла.
В повествовании Геродота просвечивает, конечно, сказка. Это, без сомнения, так, но необходимо иметь в виду, что сказочный стиль вообще типичен для его «Истории», особенно в тех местах
(237/238)
её, где Геродот сообщает историческую легенду. Сказочный стиль присущ ему именно как новеллисту, а, поскольку приметы сказки в основном международны, мы не всегда бываем в состоянии определить в новеллистических повествованиях Геродота, принадлежит ли тот или иной появляющийся у него сказочный мотив преданию местному или он пришёл к нему из общегреческой мифологической сокровищницы. В легенде о гилейской нимфе зависимость Геродота от сказки обнаруживается и в спокойной мерности самого хода повествования, в его тихом и ровном движении с длительными остановками в диалогических, типичных для стиля сказки местах, в сказочном, наивном приёме вкладывания собственных речей в уста самим лицам, действующим в рассказе (змееногой деве, Гераклу), а также в отдельных композиционных деталях сюжета. К числу последних принадлежит, например, мотив оружия, завещаемого отцом сыну. Столь же распространён в фольклоре и мотив избранничества младшего, третьего сына (в данном случае — Скифа), силой, умом или просто удачей побеждающего обоих своих старших братьев (Агафирса и Гелона): тот же мотив находим мы и в сказании о Таргитае и трёх его сыновьях, [18] и в той замечательной по богатству своего сказочного содержания македонской легенде о молодом основателе македонского царства Пердикке и двух его братьях, которая пересказана нам опять-таки Геродотом. [19] Сказочен, наконец, и всемирно известный мотив состязания братьев, засвидетельствованный бесчисленным количеством аналогий в фольклоре самых разнообразных народов, разновидность которого дана, между прочим, и только что упомянутым нами сказанием о сыновьях Таргитая. Но, помимо подобного рода мотивов общесказочного порядка, рассказ Геродота содержит в себе ещё и другие, тоже бесспорно сказочные мотивы, и при том очень древние, только более специфичные, а потому сравнительно и более редкие. Среди них с необычайной ясностью выступает мотив того особенного условия, какое нимфа ставит Гераклу: вернуть ему кобылиц согласна она лишь в том случае, если Геракл сочетается с ней. Перед нами мотив, несомненно восходящий к чрезвычайно глубокой древности и, видимо, коренящийся в бытовом укладе, идеологически совершенно чуждом тем привычным представлениям позднейшей исторической Греции, согласно которым не женщина покупает себе мужчину, а, как правило, наоборот, покупает мужчина женщину. Отзвук этого же мотива бесспорно сохранился и в мифе об Аргонавтах: у Аполлодора (I, 9, 22, 5) Медея объявляет Ясону, что золотое руно, за которым он прибыл на своём волшебном корабле в Колхиду, она согласна вручить ему, «только если он поклянётся
(238/239)
ей взять её себе в жёны» (ἐάν ὀμόση αὐτὴν ἒξειν γυναῖϰα). И эта аналогия не единственная. Мотив очень схожий, а вместе с тем представляющий и ближайшую параллель мотиву скифской легенды даёт и гомеровский эпизод встречи Одиссея с Киркой («Одиссея», X). Товарищей Одиссея Кирка обратила в свиней и держит их запертыми в свином закуте. Одиссей приходит к ней в дом и, застрахованный от её злых чар корешком волшебного растения moly, полученного им от бога Гермеса, заносит над волшебницей меч, когда та пробует и его самого обратить в животное. Объятая ужасом перед угрожающим ей оружием, Кирка бросается к ногам Одиссея (ст. 323 и сл.), просит его вложить меч обратно в ножны и предлагает ему разделить с ней ложе (ст. 334). Одиссей соглашается. Предварительно заставляя Кирку поклясться, что голому ему она не причинит никакого зла, он удовлетворяет её желание, и тогда Кирка возвращает Одиссею его товарищей, новым колдовским средством обращаемых ею опять в людей. Ernst Riess вряд ли прав, полагая, [20] будто предложение Кирки имеет целью заставить Одиссея раздеться, чтобы тем легче превратить нагого человека в животное. Нагота в магии имеет, конечно, большое значение, но в данном случае заключается дело не в ней. Попытку заколдовать незнакомца Кирка делает сразу, когда тот стоит перед ней ещё одетым: нагота, стало быть, для действия её чар не требуется. Вступить же с ним в общение она хочет (ст. 334) уже после того, как она в этом пришельце открывает великого героя, хитрого и могучего Одиссея (ст. 330), против которого её волшебство, она это прекрасно знает, бессильно. Понять ближе внутренний смысл поведения Кирки помогает нам скифская легенда: ценой возвращения Одиссею его товарищей Кирка покупает у Одиссея его согласие разделить с ней ложе. На эту же цель указывают и слова Гермеса, советующего Одиссею не отклонять от себя желания Кирки (ст. 296 и сл.):
Станет на ложе с собою тебя призывать чародейка —
Ты не подумай отречься от ложа богини: избавишь
Спутников, будешь и сам гостелюбно богинею принят.
Дословно: «Не отказывайся от ложа богини, дабы она и чары сняла с твоих товарищей и дабы и о самом тебе позаботилась». Подобно этому и Геракл вступает в связь со змееногой девой, дабы она вернула ему его кобылиц, ею спрятанных в глубине пещеры.
Укрывание стада в пещере является опять особым, самостоятельным сказочным мотивом, в древнейшей греческой поэзии оформляющимся на почве живой действительности: на ночь или днём в непогоду, при приближении бури, часто на горных пастбищах античной Греции пастухи загоняли свою скотину под давав-
(239/240)
шие защиту животным отроги скал или в гостеприимные, как бы нарочно для того созданные самой природой каменные пещеры. В гомеровском эпосе этот реальный факт быта отливается в поэтический образ, встречающийся нам, например, в гомеровских пейзажного типа сравнениях. Так, в «Илиаде» (IV, ст. 275 и сл.)
Словно как с холма высокого тучу великую пастырь
Видит, над морем идущую, ветром гонимую бурным:
С ужасом пастырь глядит и стада свои гонит в пещеру. [21]
Нельзя, однако же, не заметить, что у Геродота в его скифской легенде этот бытовой пещерный мотив тесно сплетён с мотивом чисто мифологическим, с женским сказочным образом мощной пещерной нимфы, в своём тёмном, таинственном гроте укрывающей стада животных. Античной эпической параллелью может здесь отчасти служить гомеровский гимн в честь Гермеса: младенец Гермес загоняет в пещеру аркадской горы Киллены, к своей матери Майе, украденное им у Аполлона стадо коров. Истинной хозяйкой килленской пещеры является именно она, Майя, «прекрасная горная нимфа» (ст. 244 гимна), ещё девушкой одиноко в ней обитавшая далеко от прочих бессмертных (ст. 5). Туда, в её «тенистую» (ст. 6) «каменную» (ст. 229) пещеру приходил к ней тайно от Геры (ст. 7 и сл.) Зевс. Там от Зевса родила Майя и своего сына (ст. 230). Но в горной пещере богини Майи спрятаны не только стада Аполлона: хранятся в её глубинах золото и серебро и лежат другие богатства, находящиеся в трёх запертых комнатах, двери в которые попавший в пещеру бог Аполлон открывает одну за другой ключом совсем так, как в сказке делает это и сказочный персонаж, вступающий в пещеру, где в отдельных комнатах открываются его глазам сокровища. И, разумеется, правильно этот характерный мотив, столь часто встречающийся нам в сказках, сопоставлен был Радермахером с мотивом всемирно распространенных сказаний о пещерных сокровищах, [22] в легенде часто оберегаемых женским гением, феей, получающей иногда, как в швейцарских, например, сказках, образ полуженщины, полузмеи (Schlangenjungfrau). [23] В нижнесаксонских легендах о «белой девушке» (weiße Jungfrau) овладеть сокровищами пещеры человек может лишь при том условии, если он «белую девушку», или, что равнозначно, её звериную испостась, змею, согласится поцеловать (wenn er die Schlange küsse). [24] В средневековой легенде змеиная
(240/241)
наружность пещерной девушки часто рассматривается как её несчастье, как следствие совершённого над нею волшебного акта: некогда здоровая, нормальная девушка обращена в змею злыми силами и может вернуть себе былой человечий образ только если найдется на свете такой человек, который решится её поцеловать. В награду за поцелуй она дала бы своему избавителю все хранимые ею сокровища. Старинное, приурочиваемое легендой к началу XVI столетия немецкое предание о Леонарде [25] рассказывает о сыне базельского портного, глуповатом, но чистом юноше, который проник в глубокий подземный ход близ Базеля и нашёл под землёй и девушку, и хранимые ею сундуки с деньгами. Девушка была очень красива, но её тело ниже пояса (unten vom Nabel an) переходило в страшную змею (eine gräuliche Schlange). Девушка просила юношу поцеловать её три раза, но Леонарду хватило мужества только для двух поцелуев: от третьего он бежал, устрашённый извивами змеиного тела красавицы. В конце повествования легенда содержит дополнительный интересный мотив: по выходе из пещеры Леонард попадает случайно в дом разврата, где теряет свою чистоту, а вместе с ней утрачивает навеки и возможность когда-либо вновь вернуться в пещеру, вход в которую он отныне не в состоянии отыскать. Иными словами, нарушения верности змееногая девушка юноше не прощает. Образ богини, прекрасной и мощной, обитающей скрытно в горных глубинах, ответить на жгучую страсть которой для смертного человека значит совершить тяжкий грех, нередко соединяется в средневековых легендах с представлением об античном языческом демоне, Сивилле или Венере, и с рассказами о горе Сивиллы или о горе или гроте Венеры. На основе такого мотива складывается в XV примерно веке [26] и немецкое знаменитое сказание о Тангейэере [Тангейзере]. А старое и несомненно родственное предание Швеции говорит о рыцаре Тинне (Tynne), которого заманивают к себе во внутренность горы живущие в ней таинственные красавицы и отпускают затем обратно, в благодарность одаривая героя силой нездешней разума и дивной способностью подавать хорошие советы в делах. Но, может быть, во всей германской мифологии наиболее древней [27] фигурой сказочной зачарованной девушки, заключенной в подземную глубину гор и стерегущей скопленные там сокровища, является Гуннольд, дочь великана Суттунгра, в пещеру к которой проникает Один, или Вотан, и ценою своей любви получает от Гуннольд волшебный медвяный напиток, ревниво хранимый ею в сосуде, носящем название одрерир.
(241/242)
Тема сексуальной связи мужчины с женским гением, феей, нимфой или богиней, чаще всего образует сюжет типа западных средневековых легенд о Мелюзине, контур которого, порой очень отчётливо, намечается для нас и в иных из античных мифов. Черноморская легенда о змееногой богине совпадает, однако, с сюжетом повести о Мелюзине только в двух моментах: общим для той и другой оказывается мотив брачного сожительства человека с богиней. Это во-первых, а во-вторых, внешний облик обеих женских существ и там и здесь одинаков: нижняя часть тела, начиная от пояса, и у Мелюзины во время её таинственного купания тоже змеевидна. Совпадение обоих сказаний именно в этих двух несомненно характерных подробностях хорошо было вскрыто Клингером [28] и вряд ли подлежит спору. Но сходство этим и ограничивается. Для сюжета типа сказаний о Мелюзине важны два основных мотива, которых в черноморской легенде как раз и нет: нарушение мужем запрета, положенного божественной супругой, и уход женского демона, покидающего мужчину вследствие этого нарушения. Мелюзина бросает Раймунда, как покидает у Жуковского и Ундина своего рыцаря, горячо любимого ею Гульбранда. Расстаётся навсегда и Фетида, «среброногая» нереида, дочь морского бога, со своим смертным мужем Пелеем, нарушившим тайну её божественных чар. Иногда этот сюжет образует вполне определённо даже мотив возмездия или кары: за нарушение своего обещания, данного богине, мужчина несёт наказание. Так, в античном сказании наказывается молодой пастух Дафнис, согласно одной из версий мифа о нём. Эту версию И.М. Тронский [29] справедливо приводит в смысловую связь с близким «Ундине» Фукэ сюжетом немецкой поэмы XIV в. о рыцаре Штауффенберге; ничего сколько-нибудь на это похожего мы в мифе о Геракле и гилейской Ехидне не видим. Здесь, в скифской легенде, содержанием мифа служит совершенно другой сюжет, рассказывающий о встрече героя на далёкой чужбине с женщиной, с которой он вступает в брачную связь, и о зачатии от него этой женщиной, а потом об уходе героя и о рождении у неё детей, и именно сыновей, которые растут без отца, оставившего для них матери на прощание приметы своего отцовства. Иначе говоря, рассказ Геродота построен по сюжетной схеме, характерной для начальной части того мирового сказания типа иранского сюжета борьбы Рустама с Зорабом, который говорит о боевой встрече сына с отцом, друг друга не знающих, и о кровавом их поединке. Такое сопоставление действительно и было выдвинуто Всеволодом Миллером. [30]
(242/243)
Греческие мифы дают различные варианты этого сюжета. Вариант, уже и в античное время конца V в. до н.э. наиболее популярный, а впоследствии благодаря трагедии Софокла «Царь Эдип» получивший и общемировую известность, — это история Эдипа и Лая. Следует, впрочем, иметь в виду, что созданная (на основе древнего мифа) творческим гением величайшего аттического трагика с такой силой непосредственной художественной убедительности и показанная Софоклом античному театральному зрителю драматическая картина несчастной судьбы Эдипа для сюжета встречи сына с отцом как раз не типична, хотя бы уже по одному тому, что в ней мотив встречи теснейшим образом слит с другим, совершенно самостоятельным мотивом, а именно с мотивом инцеста. [31] Равным образом и роковая брачная связь отца с будущей матерью грядущего его сына, в данном случае связь Лая с Иокастой, происходит не случайно и не в условиях одного из приключений героя на пути его подвигов или странствий, как это обычно имеет место в сюжете боя сына с отцом, а в нормальной обстановке сожительства двух супругов, царя и царицы. В Дельфийском ущелье Эдип, оскорблённый Лаем, убивает своего отца, которого он не узнаёт. В иных вариантах сюжета встречи сына с отцом смерть постигает не отца, а сына, наконец, ещё в других и отец, и сын — оба остаются живы. В античном мифе картину смерти отца даёт не только сказание об Эдипе: мы встречаемся с ней и в предании об Одиссее и Телегоне, рождающемся от Одиссея у Кирки после его отъезда. Но в мифе об Одиссее и Евриале не сын убивает отца, а отец губит сына; в мифах же об аттическом герое Тезее мы находим интересное своеобразное сочетание реликтов и того, и другого мотива. Сперва отец Тезея Эгей, не знающий своего сына, родившегося в чужом краю, хочет убить Тезея, когда тот, неизвестный юноша, оклеветанный коварной Медеей, приходит к нему в его дом в Афины. По заветной примете, боевому мечу, некогда им оставленному матери юноши в день разлуки с ней, царь Эгей вовремя опознаёт сына и отбрасывает на пол орудие задуманного им убийства, килик со смертоносной отравой. А через некоторое время сын Эгея Тезей, возвращающийся на корабле домой с острова Крита после победы над Минотавром и забывающий вопреки обещанию, которое он дал отцу, сменить в случае благополучного исхода своей борьбы с Минотавром тёмные паруса на светлые, становится невольным виновником смерти отца, ошибочно думающего, что Тезей погиб, и в отчаянии бросающегося со скалы в море.
У Еврипида в «Медее» сохранился характерный, но несколько уже приглушённый мотив несознаваемого героем тщетно ему пода-
(243/244)
ваемого богами предостережения. В ст. 679 и сл. Эгей говорит Медее о загадочных словах оракула, полученного им в дельфийском прорицалище Аполлона, «до возвращения к отчему очагу не развязывать ножки меха». Корсен [32] правильно истолковал смысл этого непонятного Эгею оракула, указав на то употребление, какое имел козий мех ἀοκός в древнейшем быту античной Греции, где он не только служил вместилищем для хранения вина, как это много позже было в обычае как Греции, так и на Востоке, но нередко и дорожным мешком, в который складывал древнегреческий путешественник свои вещи. Иначе говоря, Аполлон давал Эгею совет отправляться из Дельф прямо в Афины, нигде по дороге не задерживаясь, нигде не делая длительных остановок, или, согласно завуалированному стилю античных оракулов, нигде «не развязывая дорожного своего мешка». Эгей не понял сделанного ему предостережения и роковым образом заехал в Трезен, к своему другу Питфею, мудрость которого он уважал и от которого надеялся поэтому получить разгадку слов, сказанных ему богом. А в Трезене он увидел девушку Эфру, дочь трезенского царя Питфея, которая ему приглянулась. Вступив с ней в тайную связь, он стал отцом Тезея, появившегося на свет уже после того, как Эфра была Эгеем покинута. Мотив предсказания, имеющего целью заранее предупредить отца об угрозе рождения опасного ему сына, встречаем мы и в мифе о происхождении власти Зевса, отнимающего владычество над миром у своего отца Крона. Бог Крон, вырвавший и сам власть у родившего его бога Урана, поглощает, согласно мифу, всех своих новорождённых от богини Реи детей, так как Земля и Небо предсказали ему, что он будет лишён власти собственным ребёнком. [33] Самого младшего, т.е. последнего из рождающихся у неё детей, Зевса, Рея скрывает от Крона и обманно даёт мужу проглотить вместо ребёнка спелёнутый ею камень. Тайно от отца воспитанный на острове Крите, Зевс, выросшие возмужав, вступает с отцом в борьбу и отнимает у него власть. Аналогичный мотив такой же угрозы, несомненно до известной степени опять-таки приглушённый и получающий в мифе сложную форму сюжета на тему о неосуществлённом намерении, своего рода consilium irritum, засвидетельствован для нас античным сказанием о любовной страсти Зевса к морской нимфе Фетиде: Зевс ищет союза с красавицей нереидой, но, к счастью для него, получает вовремя предостерегающее предсказание о предстоящем рождении у него от Фетиды, если бы он вступил с ней в брак, такого могучего сына, который одолеет отца. Зевс тогда отступается от Фетиды. Фетида достаётся не богу, а смертному, мирмидонскому герою Пелею; она потом и родит
(244/245)
Ахилла, будущего героя главной общегреческой национальной поэмы.
У Геродота в том черноморском сказании, которое он читателю сообщает, момент встречи сына с отцом отсутствует. Однако это, понятно, вовсе ещё не значит, будто у скифов не было вообще предания о бое отца с сыном: напротив, ввиду широчайшей распространённости этого сюжета и в древности, и в новом фольклоре более вероятно, что подобного рода сюжет бытовал и у них. Мотив блужданий героя и его брачного союза с пещерной нимфой мог бы тогда рассматриваться как начальная часть этого сюжета. А рассказ Геродота о младшем сыне героя, молодом Скифе, получающем от своей матери оставленное для него отцом оружие, мы вправе были бы в таком случае понимать как сохранённую нам Геродотом вторую часть того же сказания, продолжением которой, весьма вероятно, служило изображение роковой встречи сына с отцом.
Скиф не знает отца и принадлежит матери, подобно тому как и в былине об Илье Муромце и его сыне [34] прижитый Ильёю сын (Сокольничек, Подсокольник, Сокольни, Соловников и т.д.) не ведает, кто был его отцом («А ведь батюшка не знаю я какой-то был»). [35]
Известна ему лишь мать:
Да одна у меня есть родная матушка,
Да старая девка Сиверьянична. [36]
В изображаемой античным мифом картине встречи героя с той женщиной, которая будет потом матерью сына героя, инициативная роль принадлежит не мужчине, а женщине: не он, а она желает иметь ребёнка; сойтись с ней заставляет героя она, и не ему в конечном счёте, а ей обязан сын своим существованием. В русских былинах этот мотив, по-видимому, совершенно отсутствует, но в «Шах-намэ» он, как и у Геродота, выступает вперёд с полной определённостью. Подобно тому как Геракл скифской легенды, рассказанной Геродотом, засыпает глубоким сном, во время которого исчезают его кобылицы, так и в великой персидской поэме пехлеван Рустем, спящий в лесу после молодецкой охоты, лишается своего бравого коня. Он его получает потом обратно: вернуть коня ему обещает дочь хозяина семенганского замка, где принят Рустем как гость, красавица Техмимэ, мать будущего Сохраба, или Зораба, входящая ночью к Рустему в его комнату
(245/246)
и своим обещанием склоняющая героя согласиться ответить ей на её желание:
Возьми, возьми меня, Рустем;
В приданое твердынный этот замок
Тебе я принесу; а утренним подарком
Моим твой конь, твой Гром могучий будет.
(Жуковский, «Рустем и Зораб», I, 7)
Схожий мотив такого же повелительного требования, предъявляемого герою женщиной, отмечен был Всеволодом Миллером также и на Кавказе, в сванетских версиях того же сюжета: женщина, стремящаяся иметь от Ростома сына, приглашает Ростома к себе и вынуждает его вступить с ней в связь. [37]
Нет никакого сомнения, что отзвуком всё того же, чрезвычайно, как видим мы, древнего мотива является сравнительно редкий в русской сказке типа «Тугарин и Анастасия Прекрасная» или «Марья Моревна» [38] сюжет встречи и брачного соединения героя с девушкой-воительницей, «царь-девицей». В прямое отличие от былин, где, насколько я знаю, в соответствующем эпизоде именно мужчина, как правило, овладевает женщиной, обычно прибегая даже к насилию, тут, в сказке, инициативная роль принадлежит опять-таки женщине. Марья Моревна сама приглашает Ивана-церевича погостить у неё. «Ну, коли дело не к спеху,— говорит она ему, — погости у меня в шатрах». А «Иван-царевич тому и рад, две ночи в шатрах ночевал, полюбился Марье Моревне и женился на ней» (Аф. т. I, №159, стр. 415). Ещё яснее в украинском варианте: «Анастасия Прекрасная и кажа Федару Тугарину: „Будь ты мне муж, а я тебе жана”» (Аф. т. I, № 160 стр. 423). В родственном эпизоде другой русской сказки («Молодильные яблоки» — Аф. т. II, №173, стр. 28) древний мотив данного сюжета обязательной разлуки мужчины и женщины остаётся немотивированным, что отмечено и комментарием к сказке (Аф. т. II, стр. 587). Пережиточный характер мотива сказывается ещё и в том, что момент брачного соединения героя и героини искусственно этой сказкой дублирован. Разгневанная дерзким поступком прокравшегося к ней неизвестного юноши, пока она крепка спала, царица — красная девица, проснувшись, гоняется за Иваном-царевичем, похитившим у неё волшебную воду, настигает и убивает его; увидев его убитым, она раскаивается: «Глянула на него красная девица, и взяла её жалость великая: другого такого кра-
(246/247)
савца во всём свете искати» (Аф. т. II, №173, стр. 31). Целящей водой она возвращает юноше жизнь и предлагает ему себя в жёны. «Возьмешь меня замуж за себя?» — спрашивает она его и получает со стороны Ивана-царевича положительный ответ. «Ну, — продолжает она, — поезжай домой да жди меня через три года».
Рудиментарный сюжет получает новое, современное рассказчику переосмысление. Ведь, согласно сказке, брак Ивана-царевича с красной девицей фактически произошёл уже раньше, до её к нему обращения. В золотом дворце, где «богатырским» глубоким сном спала, ничего не слыша, воительница-царица, Иван-царевич только что уже «смял» её «девичью красоту», и предложение, делаемое ему теперь красой-девицей, очевидно, имеет целью освятить и упрочить её с ним связь формальными узами законного брака. Но отсрочка свадьбы сама по себе остаётся необоснованной. Через три года, однако, красна девица или, по другому варианту (№172), царь-девица в сопровождении двух своих малолетних сыновей от Ивана приезжает, как обещала, к нему в его царство и помогает сыновьям отыскать их отца, за которого она и выходит затем официально замуж.
Не умирающий в своих основных композиционных линиях, рассмотренный нами сюжет типа встречи и разлуки Геракла с гилейской пещерной нимфой очень ясно, на мой взгляд, показывает, как неосторожно, а подчас и ошибочно бывает стремиться в каждом без разбора сюжете всегда непременно доискиваться его обрядово-культовых истоков. Религиозные представления играют, конечно, огромную роль в истории человечества, особенно на ранних стадиях его развития, но, помимо них, имеется у человечества ещё и реальная жизнь, не мечты и грёзы, не видимость, а живая действительность, и не религия, а именно она, реальная жизнь, всякий раз в конечном счёте и определяет сознание и отдельного человека, и общества. В античном сюжете, как в скифской легенде, так и в греческих сказаниях об Одиссее и Кирке или об Эгее и Эфре, действуют не простые люди, а герои и боги, но конфигурация самой сюжетной схемы обусловлена, так по крайней мере мне думается, не религиозными представлениями, связанными специально с сакральным содержанием того или иного из данных божественных образов, а реальными явлениями из древнейшего социального быта. Исследователю, изучающему мифологический материал, все чаще и чаще приходится убеждаться, что божества, фигурирующие в качестве персонажей мифа, нередко имеют в мифологическом рассказе функцию порядка лишь повествовательного, оказываясь меняющимися по вариантам часто повествовательными агентами давно устоявшегося традиционного сказочного сюжета.
Повествовательный мотив боя сына с отцом А.Н. Веселовский, на мой взгляд, вполне правильно считал мотивом «матриархаль-
(247/248)
ным». [39] К той же обстановке брачных обычаев, предшествующих системе патриархата и совершенно чуждых последней, без сомнения должен восходить и мотив условия, предлагаемого мужчине женщиной в начальной части сюжета. Рассказ Геродота о скифской змеевидной деве является, таким образом, одним из его древнейших сказочных выражений, а наряду с ним, как выросший на почве тех же стадиально древнейших общественных отношений, следует безусловно поставить и эпическое его оформление в гомеровском образе Кирки, матери будущего Телегона, могучей волшебницы, властно предлагающей Одиссею разделить с ней ложе.
[1] [Печатается по рукописи, предоставленной составителю Людмилой Ивановной Толстой].
[2] Herod. IV, 8-10.
[3] Herod. IV, 5.
[4] В. Клингер. Сказочные мотивы в «Истории» Геродота. Киев, 1903, стр. 100.
[5] Всеволод Миллер. Экскурсы в область русского народного эпоса. М., 1892, стр. 119.
[6] Wolf Aly Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot und seinen Zeitgenossen. Göttingen, 1921, стр. 121.
[7] Diod. II, 43.
[8] Il. XIV. 1293A.
[9] Версия Геродота несомненно лежит в основе любовной новеллы Парфенея о Кельтине (Parthen. 30). Геракл этой новеллы гонит коров Гериона и, проходя через страну кельтов, попадает к царю Бретанну. Дочь Бретанна, красавица Кельтина, влюбляется в Геракла и, спрятав его коров, соглашается ему их отдать, только если он с ней соединится. Стремясь получить обратно своих коров, а кроме того, поражённый изумительной красотой девушки, Геракл вступает с ней в брачную связь, и по прошествии времени у них родится сын Кельт, по имени которого получают и кельты своё название. Все основные моменты сюжета здесь, видим мы, повторены, но его сказочные детали устранены, исчезла и змеиная наружность женского персонажа.
[10] М.И. Ростовцев. Эллинство и иранство на юге России. Пгр., 1918, стр. 74.
[11] А. Лаппо-Данилевский и В. Мальмберг. Курган Карагодеуашх. Матер. по археологии России, №13, табл. III; М.И. Ρостовцев. [Представление о монархической власти в Скифии и на Боспоре.] Изв. Арх. ком., вып. 49, 1913, стр. 10, и табл. II.
[12] J. Böhlau. Schlangenleibige Nymphen. Philologus, LVII, 1895, стр. 33.
[13] Strabo, XI, 495.
[14] Местные греки непонятное для них название Apáturon наивно производили от греческого слова άπάτη «обман».
[15] IOSPE, II, 469; А. Kirchhoff. Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets. Tübingen, 1887, стр. 37. Судя по форме букв, надпись принадлежит началу V в. до н.э.
[16] Voyage du Sr.Α. de la Motraye en Europe et Afrique, II. Α la Hage, 1727, стр. 73, табл. IV, №№11 и 12. К сожалению, рисунок Мотрэ внушает мало доверия: подробнее см. в моей статье «„Апаторо” на памятнике De la Motraye» (ЖМНП, 1909, май, отд. кл. фил., стр. 216 и сл., с таблицей). Мужская фигура, стоящая рядом с фигурой Афродиты, по своему типу ближе всего напоминает Геракла, на что в своё время было обращено внимание ещё князем Сибирским (Каталог монет Боспора Киммерийского. СПб., 1840, стр. CCXXXV). Впрочем, сам Мотрэ склонен был усматривать в ней фигуру Ареса.
[17] IOSPE, II, 41. Cf. II 353. В.В. Латышев (Pontica, СПб., 1909, стр. 113) полагал, что «цари Боспора заимствовали свою генеалогию из Фракии». И действительно, на её связи с Фракией бесспорно указывает имя Евмолпа: см. замечание М.И. Ростовцева (Изв. Арх. ком., вып. 49, 1913, стр. 23). Греческая мифология, как известно, считала элевсинского героя Евмолпа фракийским выходцем.
[18] Herod. IV, 5.
[19] Herod. VIII, 137-138. См.: В. Клингер. Сказочные мотивы в «Истории» Геродота, стр. 92 и сл.: W. Аlу. Volksmärchen, Sage und Novelle bei Herodot…, стр. 197 и 250.
[20] Е. Riess. Studies in Superstition and Folklore. Amer. Journ. of Philology, v. XIV, 1925, стр. 228.
[21] ῦπό τε σπέος ὴλασε μῆλα (ст. 279). См.: Hermann Fränkel. Die homerischen Gleichnisse. Göttingen, 1921. стр. 75.
[22] L. Radermacher. Der homerische Hermeshymnus. Sitzungsberichte der Akad. der Wissenschaften in Wien, Bd. 213, Abh. I, 1931, стр. 124 и сл.
[23] Там же, стр. 125.
[24] G. Sсhambасh, W. Müller. Niedersächsische Sagen und Märchen. Göttingen, 1855, стр. 104, №132, Ср.: стр. 245, №260. Варианты многочисленны.
[25] Grimm. Deutsche Sagen. Berlin, 1891, №13. См. также: В. Клингер. Сказочные мотивы в «Истории» Геродота (на стр. 108 дан пересказ сюжета).
[26] Karl Keuschel, Die Tannhäusersage. Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, Bd. XIII, 1904, стр. 657.
[27] Friedrich Kauffmann. Deutsche Mythologie. Sammlung Göschen, №15, Leipzig, 1895, стр. 38.
[28] В. Клингер. Сказочные мотивы в «Истории» Геродота, стр. 106.
[29] И.М. Тронский. Миф о Дафнисе. Язык и литература, т. VIII, 1932, стр. 220 и сл.
[30] Bc. Миллер. Экскурсы в область русского народного эпоса, стр. 118 и сл.
[31] На сочетание этих двух независимых один от другого мотивов обратил внимание и ярко его подчеркнул Краппе: A.H. Krappe. La légende d’Oedipe est-elle un conte bleu? Neuphilologische Mitteilungen, Bd. XXXIV, 1933, стр. 20.
[32] С.Р. Corssen. Das Aigeusorakel in der Medea des Euripides. Berliner Philolog. Wochenschrift, Bd. XXXIII, 1913, стр. 92 и сл.
[33] Apollod. I, 1, 5.
[34] А.М. Астахова. Былины Севера, I. М.-Л., 1938, стр. 116, «Подсокольник», и стр. 609 и сл., где указана и литература.
[35] А.Ф. Гильфердинг. Онежские былины, т. I. M.-Л., 1949, стр. 421, «Илья и сын», ст. 204.
[36] А.Ф. Гильфердинг. Онежские былины, т. III. M.-Л., 1940, стр. 146, «Илья Муромец и его сын», стихи 113 и сл.
[37] Всеволод Миллер. Отголоски иранских сказаний на Кавказе. Этногр. обозрение, кн. II, 1889, стр. 8 и 11. Ср. его же работу «Экскурсы в область русского народного эпоса», стр. 125.
[38] Α.Η. Афанасьев. Народные русские сказки, I. Изд. «Academia», 1936, №№159-160 и комментарий, стр. 629; Н.П. Андреев. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929, №552.
[39] А.Н. Веселовский. 1) Поэтика сюжетов. Собр. соч., т. II, вып. 1, СПб., 1913, стр. 97; 2) Историческая поэтика. Под ред. В.М. Жирмунского, Л., 1940, стр. 560.
наверх
|